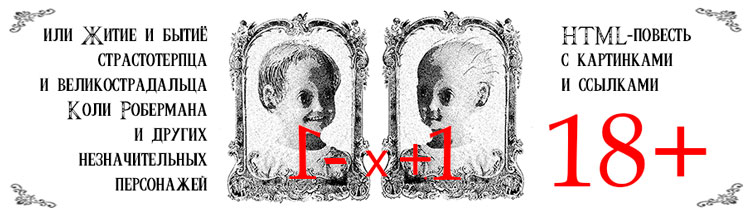Александр Сергеевич ПУШКИН
Биография: Последние годы жизни (1831—1837)
После свадьбы Пушкин прожил с молодой женой до 20-ых чисел мая в Москве, а затем переехал в Петербург и 23-го — на дачу в Царское Село. Судя по письму его к теще, видно, что счастье его было далеко не полным. «Я был вынужден оставить Москву, пишет он, во избежание разных дрязг...» (родственники жены задержали приданое Н. Н. и еще взяли в долг у поэта). Можно зато думать, что в Царском, как кажется, он был почти счастлив: денег у него от залога Болдина было 40000 руб., настоятельные долги были заплачены; «бестемпераментная» (слово Пушкина) красавица-жена не препятствовала поэту идеализировать ее и мечтать о полном счастье; от назойливых родственников жены поэт на первое время отделался, устроил себе уютное гнездо и зажил новой жизнью. «Теперь, кажется, все сладил, писал он Нащокину 1-го июня, и буду жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и без сплетен». Из этого видно, что тревога о деньгах все-таки не умирала в сердце поэта, и все последующие письма указывают нам, что беспокойство это росло — тем более, что почти в каждом письме Пушкину приходится говорить о своих расходах, о дороговизне жизни и пр. В особенности пугала его предстоящая ему жизнь в столице. «Жду дороговизны, и скупость, наследственная и благоприобретенная, во мне тревожится» — пишет он тому же Нащокину. 3-го июля он отправил Плетневу уже отчаянное письмо: «Ради Бога, вели Смирдину прислать мне денег или я сам явлюсь к нему, несмотря на карантины». Едва кончив «Повести Белкина», он послал их Плетневу с подробным расчетом, сколько он должен за них получить. Тогда же, в июне, хлопочет он у Бенкендорфа о повышении на два чина, которых не дали ему «за выслугу лет» во время его службы с 1817 по 1824 гг., а также о разрешении издавать политический официальный журнал. «Если Государю Императору угодно будет употребить перо мое для политических статей, то постараюсь с точностью и с усердием исполнить волю Его Величества. В России периодические издания не суть представители различных политических партий (которых у нас не существует), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал. Но тем не менее, общее мнение имеет нужду быть управляемо. Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда долго растравляемая завистью, соединила всех нас против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест не оружием, но ежедневной бешеной клеветой. Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны. Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бестыдные и невежественные нападения иностранных газет. С радостью взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, т. е. такого, в котором печатались бы политические и заграничные новости, около которого соединил бы писателей с дарованием и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению». В этом же письме он просил разрешения «заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках». «Не смею и не хочу взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина», — не без задней мысли оканчивает свое письмо поэт; «но могу со временем исполнить мое давнее желание — написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III-го». Рукою Бенкендорфа на оригинале этого письма написано: «Государь велел его принять в Иностранную Коллегию с позволением рыться в старых архивах для написания истории Петра Первого». Несмотря на эту резолюцию, на службу Пушкин поступил лишь с 1-го января 1832 г. Несомненно, эти предложения услуг правительству вызваны были той «денежной тревогой», которая усиливалась все больше и больше. Вечные хлопоты о векселях, просьбы о деньгах и, по-видимому, напряженное усилие «творчества» ради денег, — вот печальная сторона «новой» жизни поэта... Если не раз и раньше совесть его мучила, что он существует на счет своего вдохновения («Разговор книгопродавца с поэтом»), то теперь, когда поэт должен был писать и продавать сейчас же рукописи, он должен был чувствовать себя особенно тяжело. К этому присоединялось самое презрительное отношение к той публике, которая должна была платить эти деньги. «Если бы ты читал наши журналы», пишет он Нащокину 21-го июля, «то увидел бы, что все, что называют у нас критикой, одинаково гадко и смешно... Ни критика, ни публика не достойны дельных возражений». 7-го октября он жаловался Нащокину: «Мне совестно быть неаккуратным, но я совершенно расстроился: женясь, я думал издерживать втрое против прежнего, вышло вдесятеро». Но эти денежные расчеты не омрачали еще счастья Пушкина, — он верил, что они преходящи, а его благополучие в будущем обеспечено. Эта вера давала ему силы утешать даже других: Плетневу он писал 22-го июля: «Опять хандришь! Эй, смотри, хандра хуже холеры, — одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди умрет Жуковский, умрем и мы, но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомых, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки; а детки будут славные, молодые, веселые ребята; мальчики стануть повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам то и любо. Вздор, душа моя, не хандри, холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы!"
Лето в Царском Селе в 1831 г. было глухое, безлюдное: холера свирепствовала в Петербурге; карантины, окружавшие Царское Село, народные волнения в столице, все это не могло способствовать подъему настроения. Но на частной жизни Пушкиных эта отдаленность от тревог и даже от людей отразилась особенно счастливо, — они вели тихое, уединенное существование и виделись только с Жуковским да с Александрой Осиповной Россет (впоследствии Смирновой). «По утрам, рассказывает она в своих записках, и Жуковский, и Пушкин были каждый при своем деле: Жуковский занимался с Великим Князем или работал у себя, Пушкин — писал». Усиленная работа в своем кабинете, прогулки с женой, посещения Россет — такова была однообразная и спокойная жизнь поэта летом 1831 г. Постоянное присутствие Жуковского, этого умного, веселого, детски-кроткого и душевного человека, придавало тихую прелесть немногочисленному дружескому кружку. Добродушная шутка и незлобивый смех царили в их интимных собраниях. В это лето, между прочим, оба поэта состязались в обработке народных сказок: Жуковский написал «Берендея» и «Спящую Царевну», Пушкин — «Царя Салтана».
Такая жизнь была Пушкину по душе. Чтобы быть вполне счастливым, ему нужно было отделаться от расходов. Вот почему он несколько раз в письмах к Осиповой говорит о приобретении деревни Савкина, около Тригорского; там он рассчитывал, очевидно, поселиться с женой ради экономии. Отношения к правительству у Пушкина до некоторой степени установились, хотя газеты ему издавать не разрешили и вакантного после Карамзина места «историографа» не предоставили, но приняли на службу с 5000 руб. жалованья сверхштатным чиновником в Государственную Коллегию Иностранных Дел.
Как и раньше, так и в этом году, стихотворные грехи его юности время от времени давали себя чувствовать. Один из вожаков польского восстания, Лелевель, в одной из своих возбуждающих речей, превознес Пушкина за его оппозиционные настроения. Эта похвала была для поэта совершенно некстати, и он поспешил высказаться публично по поводу польского движения: им написаны были стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская Годовщина», в которых он становится на правительственную точку зрения. Эти стихотворения, вместе со «Стансами» (1826 г.), явно свидетельствуют, что если «Стансы» говорят лишь о минутном увлечении поэта личностью Императора, то эти два стихотворения — уже несомненная исповедь новой политической веры поэта: он решительно перешел на сторону правительства и не считал нужным этого скрывать перед русской публикой.
В это время Пушкин сделал попытку отделаться от опеки державного цензора, но она не удалась. Пушкин писал Бенкендорфу: «В 1829 году Ваше Высокопревосходительство изволили мне сообщить, что Государю Имаератору угодно было впредь положиться на меня в издании моих сочинений. Высочайшая доверенность налагает на меня обязанность быть и самому себе строжайшим цензором, и после того было бы для меня нескромностью вновь подвергать мои сочинения собственному рассмотрению Его Императорского Величества». На это письмо от графа Бенкендорфа последовал ответ. «Для меня всегда приятно быть с Вами в сношениях по предмету Ваших сочинений, и потому я прошу Вас всякий раз, когда будете иметь в том надобность, обращаться ко мне со всею искренностью. Вместе с сим, считаю необходимым заметить Вам, что сколь ни удостоверен Государь Император в чистоте Ваших намерений и правил но, со всем тем, однако, мне неизвестно, чтобы Его Величество разрешил Вам все Ваши сочинения печатать под одною Вашею только ответственностью. Упоминаемое в письме Вашем сообщение мое к Вам 1829 года относилось к одной лишь трагедии Вашей под названием «Годунов», а потому Вам надлежит по-прежнему испрашивать всякий раз Высочайшее Его Величества соизволение на напечатание Ваших сочинений» (19-го октября 1831 г.).
В 20-х числах октября Пушкин с женою переехал в Петербург и зажил широкой светской жизнью. Если дорого обошлось ему первое обзаведение, то теперь еще чувствительнее сказалась та жизнь, в которую он втянул жену. Без преувеличения можно сказать, что небогатая Гончарова, только что начавшая появляться в московских гостиных, — женщина холодная, равнодушная и «бестемпераментная», по выражению Пушкина, — могла и не стремиться к рассеянной светской жизни, но сам Пушкин, влюбившийся со всем пылом своей страстной натуры, был человеком слишком тщеславным, чтобы не вывозить своей красавицы-жены в свет. Вероятно, на первых порах она и не предъявляла ему никаких требований насчет костюмов и обстановок, — поэт сам шел на то, чтобы окружить ее баловством, поклонением, одним словом — всем тем, что для нее могло казаться «счастьем».
Он великодушно брал на себя всю черновую работу в этом созидании ореола для своей жены. Наем квартиры, столкновения с хозяевами, экипажи, возня с прислугой и прочие мелочные домашние дрязги целиком лежали на его обязанности. И комичен, и жалок был поэт наш в новой и столь несвойственной ему роли домовитого хозяина. Начались балы, выезды, приемы. Наталья Николаевна сразу заняла в свете почетное место. Государь, а за ним и вся знать ласково и радушно встретили появление красавицы. Приглашениям не было конца, и Пушкин должен был повсюду сопровождать жену. Он не только тешил ее нарядами и роскошью, а тешил и себя, и в то же время, из самолюбия и тщеславия, не хотел, чтобы она уступала в чем-нибудь своим великосветским соперницам. Не мудрено, что долги его росли и грозили полным разорением. Ради устройства своих дел, он 6-го декабря уехал в Москву, где и прожил до 20-х чисел. Эта первая разлука с женой причинила много тревоги и тоски поэту: письма его остались красноречивым памятником его настроения. Супруга его рисуется в них во весь рост: это пустая женщина, интересующаяся только московскими сплетнями, нуждающаяся в том, чтобы ее забавляли, смешили, чтобы за ней ухаживали, как за ребенком; сама она совершенно беспомощна в хозяйстве и в делах; она нуждается в руководительстве и самых примитивных советах; но в то же время она уже «избалованный», капризный ребенок, который в письмах поэта привлекателен только потому, что освещен трогательною любовью. С нею Пушкин может только «болтать», смешить ее, но не советоваться; не может ей открывать своего сердца, так как она его не поймет и будет скучать: «С тех пор, как я тебя оставил», пишет ей Пушкин, «мне все что-то страшно за тебя. Дома ты не усидишь, поедешь во дворец и, того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени комендантской лестницы. Душа моя, женка моя, ангел мой! сделай мне такую милость: ходи 2 часа в сутки по комнате и побереги себя. Вели брату смотреть за собою и воли не давать...
Если поедешь на бал, ради Бога, кроме кадрили не пляши ничего; напиши, не притесняют ли тебя люди, и можешь ли ты с ними сладить». В другом письме он уже не без раздражения упрекает жену за слабоволие в отношениях к прислуге. «Ты пляшешь по их дудке; платишь деньги, кто только попросит — эдак хозяйство не пойдет. Вперед, как приступят к тебе, скажи, что тебе до меня дела нет; а чтоб твои приказания были святы! С Алешкой разделаюсь по моем приезде. Василия, вероятно, принужден буду выпроводить с его возлюбленной». Далее следуют советы не «стягиваться», «не сидеть, поджавши ноги», осторожнее завязывать знакомства, не «дружиться с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике».
Литературная деятельность Пушкина за этот год выразилась в сочинении отрывка «Рославлев» и нескольких стихотворений. Из них два, «Красавица» и «Отрывок», посвящены Гончаровой: первое — еще невесте, когда поэт благоговел перед «святыней» ее красоты, второе — уже жене; оно характерно тем, что обличает холодность жены к мужу, — она противилась его ласкам и «без участия и внимания» слушала его страстные речи, его признания, полные раскаянья и тоски о прошлых грехах. К этому же году относятся вышеупомянутые стихотворения: «Клеветникам России», «Бородинская Годовщина». Кроме того, написаны им: «К тени полководца», «19-е октября 1831 г.» и «Эхо». Оба последние произведения очень характерны для понимания Пушкина: в первом из них звучат грустные ноты, совершенно неожиданные у человека, по-видимому, счастливого первым семейным счастьем. Между тем, поэта мучила мысль о скорой его смерти; пересчитав места, опустевшие за смертью друзей, он останавливается всеми своими помыслами на Дельвиге. Стихотворение «Эхо», прекрасно изображающее сущность пушкинской поэзии — разнообразие ее мотивов и отзывчивость на все впечатления, кончается характерными признаниями, что поэту, как эхо, «нет отзыва»... Очевидно, сознание духовного одиночества поэта не уничтожилось с его женитьбой, — быть может, даже обострилось.
В феврале 1832 г. Пушкину опять дали почувствовать, что милостивое отношение к нему правительства не есть еще освобождение от «опеки»: 7-го февраля Бенкендорф прислал ему официальный запрос, по какому праву напечатал он в альманахе «Северные цветы» свое стихотворение «Анчар», не испросив предварительно Высочайшего дозволения. Пушкину пришлось отвечать, что, по его мнению, высочайшая милость представлять свои произведения на просмотр государю не лишила его права, данного всем подданным, — печатать с дозволения цензуры. Подобные неприятности, мелкие, но частые, долго и чувствительно уязвляли поэта, — он даже охладел на время к намерению взять на себя редакторство предполагаемой официальной газеты, — намерению, которым до того он был сильно занят. Наряду с выговорами, Пушкин получал, впрочем, и знаки Высочайшего благоволения, — так, 17-го февраля емув «подарок» от Государя был прислан один экземпляр Полного Собрания Законов Российской Империи. Пушкин «с чувством глубочайшего благоговения» приносил письменную благодарность через Бенкендорфа за этот «драгоценный знак царского благоволения». Кроме того, разрешено было Пушкину заняться собиранием материалов для истории Петра I-го в государственных архивах; 29-го февраля 1832 г. ему позволили разобрать библиотеку Вольтера, хранившуюся в Эрмитаже; затем он проник в Петербургский Архив Инспекторского Департамента и в Московский Главный Архив Министерства Иностранных Дел.
11-го июля Пушкин писал Погодину о том, что государь разрешил ему издавать политическую газету. 16-го сентября поэт дал Н. И. Тарасенко-Отрешкову доверенность на принятие звания редактора дозволенной газеты, а 17-го выехал в Москву. 1-го октября Бенкендорф согласился на утверждение этого лица редактором и об этом известил Н. Н. Пушкину, но уже 2-го числа от Мордвинова, начальника III-го Отделения, прислано было письмо с запрещением приступать к изданию газеты до возвращения Бенкендорфа из Ревеля и до представления Государю образцов газеты. Так дело с газетой расстроилось. Все эти задержки указывали на то недоверие, с которым следили за каждым, даже благонамеренным, в правительственном смысле, шагом Пушкина. Это и оскорбляло его, и в то же время крайне невыгодно отражалось на его финансовых обстоятельствах. Он, по-прежнему, и в этом году продолжает употреблять все усилия, чтобы как-нибудь извернуться: сохранилось, например, письмо его к М. О. Судиенко с просьбой дать взаймы 25000 руб.; письма к Нащокину по-прежнему наполнены разными хитроумными проектами раздобыть денег. В Москве он пробыл с 21-го сентября по 10-е октября, работая в архивах, хлопоча о денежных делах своих и жениных. Письма его к жене все в том же духе, что и письма 1831 года, — та же заботливость о мелочах ее будничной жизни, то же недоверие к ее уменью вести хозяйство и держать себя в обществе, те же страхи за ее здоровье. Поэт словно удивляется, получа в Москве от жены письмо — первое, которое оказалось, сверх ожидания, «длинным». «Какая ты умненькая, какая ты миленькая», восклицает он 25-го сентября, «какое длинное письмо. Как оно дельно! благодарствую, женка. Продолжай, как начала, и я век за тебя буду Бога молить!". Жутко делается за великого человека, который до такой степени был неизбалован счастьем в жизни, что готов был в первом «дельном» письме подруги жизни усмотреть какое-то особое благополучие! Он по-прежнему потешает ее московскими сплетнями, которые все группировались около нее. По-прежнему упрекает он жену за кокетничанье: очевидно, она посылала ему отчеты о своих победах, делилась с мужем тем, что было единственным содержанием ее убогой души. «Нехорошо только», писал ей Пушкин 27-го сентября, «что ты пускаешься в разные кокетства; принимать П—а тебе не следовало, во-первых, потому, что при мне он у нас ни разу не был, а во-вторых, хоть я в тебе и уверен, но не должно свету подавать повод к сплетням. Вследствие сего деру тебя за ухо и целую нежно как будто ни в чем не бывало...» Очевидно, уже теперь червь ревности забрался в его измученное сердце. 30-го сентября он пишет: «я только завидую тем из них (друзей), у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc. etc. Знаешь рускую песню —
Не дай Бог хорошей жены.
Хорошу жену часто в пир зовут,
а бедному то мужу во чужом перу похмелье».
Иногда жалобы Пушкина звучат очень трогательно. Нежность к жене увеличилась у поэта с тех пор, как он сделался отцом: 19-го мая 1832 у него родилась дочь Мария (в замужестве Гартунг).
К середине октября 1832 г. поэт вернулся в Петербург и снова повел рассеянную жизнь и кропотливую работу в архивах, в расчете будущими трудами улучшить свое материальное положение.
Литературная деятельность его в этом году была интенсивнее, чем в прошедшем: из стихотворений одно посвящено жене («Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»), большинство других представляют собою переводы и подражания или отрывки каких-то стихотворных «повестей» («Начало повести», «Юдифь», «Альфонс», «Подражание Данту»). Пребывание в Москве отразилось еще в мимолетном увлечении поэта каким-то чистым девическим образом: с необыкновенной грацией выразил поэт ту светлую любовную печаль, с которою провожал он глазами это мимолетное, чистое видение: «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу волнениям любви безумно предаваться!» После этого тревожного крика, поэт переходит в другое, более мирное, спокойное настроение, — любить он не имеет права, но «погрузиться в минутное мечтанье», когда мимо него проходит «младое, чистое, небесное созданье» — это он себе разрешает... И вслед уходящему юному существу он посылает благословенье «на радость и на счастье», всем сердцем желает ей «все блага жизни сей», «веселье, мир душе, беспечные досуги», —
Все, — даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.
Эти заключительные слова раскрывают нам то бескорыстное, чуждое эгоизма сердце, которое своим чувствам еще раньше нашло выражение в стихотворении «Я вас любил». Из прозаических произведений Пушкина этого года надо назвать 14 глав «Дубровского», романа, в котором живо и рельефно изображена жизнь русского дворянства в деревне, — прекрасный фон для развития сюжета, заимствованного из модных тогда иностранных романов с «благородными» романтическими разбойниками на первых ролях. Но, конечно, не этот заимствованный и избитый сюжет интересен в романе, а именно фон — русская природа, русские мужики, чиновники и дворяне, которые все обрисованы просто и правдиво. Если в «Евгении Онегине» герои слишком выступают вперед, то в «Дубровском» они очерчены бледнее и не закрывают остальных действующих лиц.
К этому же году относятся начальные сцены «Русалки». Эта драма на мотивы из народных сказок представляет собою первую попытку использовать сказку для драмы. Как на источник пьесы, указывают и на чешскую песнь «Яныш-Королевич», переведенную Пушкиным, и, с большим основанием, на оперу Гейслера «Das Donauweibchen»: эта опера имела успех и была у нас переведена и поставлена в 1803 г., под названием: «Русалка, опера комическая в трех действиях». Сюжет оперы очень близок к произведению Пушкина, хотя ничего общего не имеет с ним в колорите. Глубокое проникновение в дух народной поэзии помогло Пушкину в своем творчестве удачно соперничать с народом, и в «Русалке» его способность творить в народном духе выразилось блестяще: он сумел чужой сюжет оживить новым духом, перевоплотил чужое, немецкое в родное, русское.
1833-й год не принес Пушкину никакого облегчения. Жена его вполне втянулась в жизнь светской, победоносной красавицы, мало стесняясь тем, что муж не скрывал своего неудовольствия этим, хотя и смягчал его то шутками, то ласками. Денег становилось все меньше, семейство увеличивалось (6-го июля у него родился сын Александр), а вместе с тем новые хлопоты, новые неприятности тяжелым бременем ложились на голову поэта. Временами отчаянье овладевало им. В одну из таких тяжелых минут написано им стихотворение
Не дай мне Бог сойти с ума...
Труд и голод, посох и сума кажутся поэту лучше этого состояния. Его не страшило, что он лишился бы разума, если бы его оставили при этом на свободе: тогда, сливаясь с природой, он жил бы с ней одной жизнью и был бы счастлив, но его ужасала мысль, что его «запрут»; «посадят на цепь дурака и сквозь решетку, как зверька, дразнить придут». Без преувеличения можно сказать, что во время, когда создавалось это стихотворение, такое состояние души все чаще и чаще посещало поэта. С отроческих лет он жаждал независимости и свободы, вечно отбивался от всякого рабства, от всяких оков; но с каждым годом эти оковы все тяжелее ложились на него — и вот теперь он видел себя уже в клетке, откуда не было выхода: в поведении Бенкендорфа поэт справедливо усмотрел «поддразнивание», о котором он говорит в означенном стихотворении: перед всесильным шефом он, великий поэт, был только жалким, беспомощным человеком, сидящим в клетке на цепи. В отношениях жены — он, быть может, тоже чувствовал это поддразниванье, хотя и не злостное, а наивное, безсознательное, но оскорбительное и крайне для него болезненное, — так как и перед ней он чувствовал себя также в оковах, снять которые он тоже не был в силах. Русская публика, русская критика, великосветское общество, многие «друзья», от которых Пушкину претило, все это окружило его целой сетью зависимостей, и все это не щадило его самолюбия и дразнило легкомысленным отношением к его произведениям, легковесной критикой, пренебрежением, сплетнями, бестактными шутками, укорами и советами. Понятно, какой ужас временами мог охватывать поэта, по мере того, как все яснее и яснее он начинал сознавать свою беспомощность и свое рабство. Вот почему, при всей своей любви к жене, невзирая на приступы ревности и даже раздражения, он был способен на несколько месяцев бросать все: семью и общество — и ездить по окраинам России под предлогом собирания на месте материалов для своих научных и литературных работ.
Мы видели уже, что историческими разысканиями в архивах Пушкин занялся не по призванию, а ради увеличения средств к жизни, а быть может и в расчете на получение звания «историографа». Для архивной работы у него не было ни навыка, ни способности, ни даже и особой охоты. Самый предмет его первоначальных изысканий — Петр Великий вовсе не был для него освящен тем увлечением, которое ученого специалиста может приковать к усидчивому, безраздельному труду: потому-то Пушкин так легко от петровских бумаг переходил к библиотеке Вольтера, к бумагам о Суворове, о Пугачеве. Последний восторжествовал над Петром: образ мятежника и картины тогдашнего тревожного времени настолько захватили воображение поэта, что, наряду с «Историей Пугачевского бунта», в его голове стали неясно складываться, слагаться очертания его исторической повести, — первые очертания героев и содержания «Капитанской Дочки».
В конце июля Пушкин подал прошение о долгосрочном отпуске (сперва в Дерпт для посещения вдовы Карамзина, потом в Нижегородскую деревню, Оренбург и Казань), мотивируя его следующим образом: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но они доставляют мне способ проживать в С. — Петербурге, где труды мои, благодаря начальству, имеют цель более важную и полезную». Так кривил душой поэт, называя «суетными занятиями» свою литературную деятельность, а службу в Петербурге «важной и полезной».
Пушкину было разрешено съездить, куда он просился, но Государь изъявил желание знать, что побуждает его к поездке в Оренбург и Казань, и по какой причине хочет он оставить занятия, здесь на него возложенные». Получив разрешение, поэт 18-го августа отправился в Казань и Оренбург. Свое путешествие он подробно описывал в письмах к жене: разлука смягчила накипавшее раздражение, и тон этих писем опять прежний, грустно-неутешный, не переходящий в упрек, но ясно говорящий, что непонятый человек, при всей своей любви к подруге жизни, не нашел в семье счастья и отдыхал вдали от нее. — 18-го августа Пушкин вместе с Соболевским поехал по московской дороге. Сначала он хотел заехать в Ревель, к Карамзиным; но, в видах. экономии, решился ехать прямо в Оренбург. По дороге он заехал в Ярополец, имение Гончаровых, затем, в Тверской губернии, — в имение Вульфов. В Москве он провел несколько дней, остановившись, как всегда, у Нащокина; виделся с Чаадаевым, Погодиным, Булгаковым, Судиенкой, Н. Н. Раевским, а затем направился в Нижний, Казань, Симбирск и 18-го сентября был уже в Оренбурге. В Казани он свиделся с поэтом Боратынским. Оренбургскую губернию Пушкин объехал в сопровождении В. И. Даля, а 1-го октября был уже в Болдине, где и прожил до половины ноября.
Письма поэта за все это время относятся почти исключительно к жене. Он засыпает ее комплиментами и восторженными восклицаниями вроде: «addio, mia bella, idol mio, mio bel tesore»; уверяет ее в том, что она прекрасна: «гляделась ли ты в зеркало», спрашивает он, «и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничто сравнить нельзя на свете, — а душу твою люблю я еще более твоего лица»; рядом с этим просьбы: «не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась, я приеду к тебе, ничего не успев написать, а без денег сядем на мель. Ты лучше оставь уж меня в покое, а я буду работать и спешить». В другом письме он ей пишет: «Кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности, не говорю уж о беспорочности поведения, которое относится не к тому, а к чему-то уже важнейшему. Охота тебе, женка, соперничать с гр. С…, — ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка». В письме от 30-го октября упреки носят более тревожный характер: «Ты, кажется, не путем искокетничалась», — пишет Пушкин; смотри, недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою... бегают... есть чему радоваться. Не только тебе, но и Прасковье Петровне легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников... Вот вся тайна кокетства; было бы корыто, а свиньи будут!". В этом же письме есть характерная жалоба на то, что жена изменила прежнему «милому, простому, аристократическому тону и ведет себя не «comme il faut»; следует шутливая угроза развестись с нею: поэт, очевидно, вепоминал свою жену скромной, тихой девицей-красавицей, когда она впервые стала появляться в московских гостиных. Но едва ли он догадывался, что в происшедшей с женой метаморфозе он был очень виноват: своим раболепством перед ней и баловством он развил в ней все дурные стороны ее ограниченной души. Теперь оставалось или разорвать с нею, или незаметно, шутливо-ласково направлять на путь истинный, — легким упреком, шуткой и жалобой; Пушкин, очевидно, предпочел второе: «Женка, женка! — пишет он ей 6-го ноября: я езжу по большим дорогам, живу по 3 месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу — для чего? — для тебя, женка: чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам неразлучным мущины не прибавляй беспокойств семейственых, ревности etc. etc.". Но, очевидно, эти попытки затронуть тонкие струны сострадания и признательности в душе жены Пушкину не удались, — она по-прежнему продолжала свой образ жизни и с непонятною жестокостью подробно описывала его мужу. Около 20-го ноября Пушкин вернулся в Петербург.
Литературное творчество Пушкина за этот год выразилось в целом ряде стихотворных переводов: из Афенея, Кенофана Колофонского, Мицкевича («Воевода», «Будрыс и его сыновья») и подражаний испанским романсам (Родриг) и народным песням («Сват Иван, как пить мы станем», «Один то был у отца, у матери единый сын», «Друг мой милый, красно солнышко мое», «Царь увидел пред собою», «В поле чистом серебрится»); из лирических стихотворений, касающихся интимной жизни пушкинского сердца, интересно только одно вышеприведенное: «Не дай мне Бог сойти с ума». Кроме того, в этом году написана им «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о Мертвой Царевне», окончена повесть «Дубровский» и начата поэма «Медный Всадник» — произведение, сложившееся с одной стороны, как результат изучения личности Петра, а с другой — как отражение того широкого оптимистического миросозерцания, которое мирило Пушкина с временным, случайным злом в массе добра... Мелкое, личное — ничто перед широким, вечным, общечеловеческим и даже общегосударственным. С такой точки зрения посмотрел Пушкин на несчастье Евгения и осудил в нем дерзость муравья, восставшего во имя своего личного счастья. С такой широкой точки зрения мог иногда смотреть Пушкин и на свою жизнь: тогда он прощал правительству мелкие промахи во имя веры в величие будущей России; с такой точки зрения мог он смотреть по временам благожелательными очами на своих детей, вообще на молодое поколение: из узких, эгоистических рамок личного существования поэт вырос и приподнялся над современностью; и в прошлом, и в настоящем, и в будущем готов он был находить разумное, прощать зло во имя господствующего добра. Это сознание, вероятно, утешало его.
1834-й год был для поэта еще тяжелее, чем все предыдущие. В январе месяце он был назначен камер-юнкером. Трудно сказать, было ли это милостью, или новой цепью, которая еще крепче должна была сковать поэта, все еще внушавшего подозрения. Этой «милостью» поэт был оскорблен больше, чем всеми придирками гр. Бенкендорфа: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (это довольно неприлично моим летам)", пишет он 1-го января 1834 года в своей записной книжке. «Меня спрашивали, доволенли я моим камер-юнкерством? — Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным; а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили учиться французским вокабулам и арифметике». 7-го января он там же отмечает: «Государь сказал Княгине Вяземской: J'espere que Pouschkin а pris en bonne part sa nomination (следовательно, были основания толковать назначение и в дурную сторону!). Jusqu'a present il m'а tenu parole, et J'ai ete content de lui...» «Великий Князь намедни поздравил меня в театре», пишет Пушкин в дневнике: «Покорнейше благодарю, Ваше Высочество, до сих пор все надо мною смеялись: вы первый меня поздравили...» Неудовольствие поэта вполне объяснимо: новое звание связано было с обязанностями царедворца, для него обременительными; товарищи его, камер-юнкеры, были еще молодыми людьми, и между ними 35-летний Пушкин слишком выделялся. Н. М. Смирнов в своих воспоминаниях сообщает по этому поводу следующее: «Пушкина сделали камер-юнкером, — это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно ему дано, чтоб иметь повод приглашать ко двору его жену. При том, на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто бы он сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своей славой, боялся, чтобы сие мнение не было принято публикою и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен и решился не пользоваться своим мундиром и, чтоб не ездить ко двору, не шить даже мундира». Смирновы насильно заставили его купить подержаный мундир князя Витгенштейна.
Молва о том, что поэт почтен придворным званием ради красоты жены, очень была распространена в городе: в воспоминаниях Соллогуба говорится об этом: «Жена его (Пушкина) была красавица, украшение всех собраний и, следовательно, предмет зависти всех ее сверстниц. Для того, чтобы приглашать ее на балы, Пушкин пожалован был камер-юнкером. Певец свободы, наряженный в придворний мундир, для сопутствования жены красавицы, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувстовал глубоко…"
В том же январе принят был в гвардию офицером барон д'Антес, Это был красивый блондин, ловкий, веселый и болтливый, хвастливый и самонадеянный... Наружность его была из тех, которые нравятся светским женщинам. Он был более остроумен, нежели умен, и умел оживить салонный разговор удачным каламбуром, но далее этого способности его не шли. При ограниченном уме, он был совершенно лишен образования; отличительною чертою его была привычка хвастать своими успехами у женщин: во всем прочем он был добрый малый, хоть и пошловат, любим товарищами и большинством знакомых; словом, он был вполне под пару Н. Н. Пушкиной. Он «много суетился, танцовал ловко, болтал, смешил публику и воображал себя настоящим героем бала». Поэт познакомился с д'Антесом в ресторане, за общим столом, и, встречаясь там почти ежедневно, они до некоторой степени сблизились. Кроме камер-юнкерства, сделавшегося незаживающей язвой в сердце Пушкина, много горя пережил он в этом году от своих ближних родственников — родителей, брата и сестры.
В письме к Нащокину поэт рассказывает следующую семейную сцену: «На днях отец мой посылает за мной. Прихожу, нахожу его в слезах, мать в постели, весь дом в ужасном беспокойстве. «Что такое?» — «Имение описывают.» — «Надо скорее заплатить долг.» — «Уж долг заплачен. Вот и письмо управителя.» — «О чем же горе?» — «Жить нечем до октября.» — «Поезжайте в деревню.» — «Не с чем». Что делать? Надо взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты. А надобно: я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата». Из следующих писем видно, как тяжело легла эта обуза на плечи Пушкина, когда он взялся управлять разоренным имением. «Если не взяться за имение», писал он жене, «то оно пропадет даром: Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и горя мало. Меня же будут цыганить. Ох, семья, семья!".