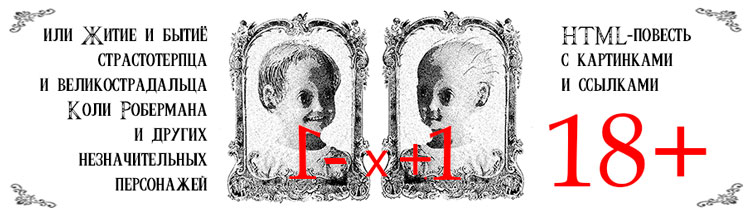Александр Сергеевич ПУШКИН
Биография: Пушкин на Кавказе (1820—1824)
В середине мая 1820 г. Пушкин приехал на место нового назначения в г. Екатеринослав. С сердечной добротой и участием встретил поэта генерал Инзов, его теперешний начальник. Но Пушкину не пришлось вступить в исправление своих обязанностей. Через несколько дней после приезда, выкупавшись в Днепре, он сильно простудился и слег в постель и тут-то впервые ощутил ужас полного одиночества. Случайно через Екатеринослав проезжал генерал Раевский, ехавший с семейством на кавказские минеральные воды; сын его, молодой Раевский, знавший Пушкина лицеистом и познакомившийся с ним в обществе царскосельских гусаров, узнав о болезни поэта, навестил его и застал, как рассказывают, в бреду, в грязной жидовской хате, в обществе одного крепостного Никиты; по-видимому это была малярия, несколько раз возвращавшаяся к Пушкину (летом 1820 г., на Кавказе, в начале ноября 1820 г., быть может, в начале декабря того же 1820 г.). Старик Раевский, известный герой Отечественной войны, был один из просвещеннейших и симпатичнейших людей эпохи; высоко ценил он и родных писателей, поддерживая с некоторыми из них знакомства, знал Пушкина по его первым произведениям, а еще более, конечно, по слухам. Молодые Раевские с высокими нравственными качествами своего отца соединяли редкое по тому времени образование: они интересовались поэзией, знакомы были с иностранной литературой, читали Вальтер Скотта и Байрона в оригинале в то время, когда их, особливо последнего, почти не знали наши даже записные литераторы. Младший сын генерала Раевского, тоже Николай Николаевич, страстно любил литературу, музыку, живопись и сам писал стихи; он довольно долго оставался одним из главных советников Пушкина в делах литературы, и его взгляды, насколько о них можно судить по некоторым данным, отличались глубиной, оригинальностью и верностью. Об Александре Николаевиче Раевском сложилось мнение, как об одном из самых замечательных людей своего времени; его склонны были видеть в демоне Пушкинского стихотворения 1823 г. Со старшей из дочерей Раевского, Екатериной Николаевной, за которою позднее утвердилось название «Марфы-Посаднщы», Пушкин часто разговаривал и спорил также и о литературе. Сестра ее, замкнутая, серьезная и скромная Елена Николаевна, хорошо знавшая английский язык, переводила Байрона и Вальтер Скотта на французский язык; с ней также сблизился поэт; говорят, под ее руководством он свел первое знакомство с сочинениями Байрона.
Просьба Раевского-сына о разрешении Пушкину ехать с ним на Кавказ отцом была уважена, Инзов ничего против этого не имел, дал отпуск своему подчиненному, и в последних числах мая 1820 г. поэт, пробыв в Екатеринославе менее двух недель, неожиданно для себя отправился на Кавказ. В первых числах июня Пушкин с Раевским добрался до «Минеральных вод». Счастье улыбнулось ему: в семье Раевских он нашел сердечных и просвещенных лодей, сумевших создать вокруг него благородную атмосферу, которая подействовала очищающим и успокаивающим образом на встревоженное и усталое сердце поэта. Если прибавить к этому сильные впечатления от путешествия, от наслаждения Кавказом, Крымом, то понятной сделается та удивительная перемена, которая произошла в настроении Пушкина: его стихи, его письма говорят нам о необыкновенном спокойствии, спустившемся на его душу, о безоблачном счастье, которым он наслаждался в течение этих нескольких месяцев (с мая 1820 г. до 21-го сентября). «Мой друг», писал Пушкин брату 24-го сентября, вернувшись из поездки: «счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска: я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более, нежели известен. Все его дочери — прелесть; старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо, прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море»... Одним словом, все в этой новой жизни было Пушкину приятно — и люди, которых он, очевидно, уважал, как немногих в своей жизни, и та милая, «семейная» обстановка, которая ласкала его сердце, неизбалованное лаской, но искавшее ее жадно, и природа с новыми нахлынувшими настроениями. По существу своему «искатель новых впечатлений», Пушкин был глубоко благодарен Н. Н. Раевскому за то, что тот вытащил его из Екатеринослава и подарил его этими впечатлениями… Он застал поэта в самом угнетенном настроении, воображение еще более взвинчивало это настроение — и поэт представлял себя жертвой общества; он «погибал безвинный, безотрадный», ему чудился «шопот клеветы», «кинжал измены хладной» и «любви тяжелой сон» его и терзали, и мертвили, он «рано скорбь узнал», испытал гоненья, сделался «жертвой мстительных невежд»; он готов был уверить себя и других, что «пережил свои желанья», разлюбил мечты, что одни страданья остались в его пустом сердце; нежное участие Раевского принесло ему отраду душевной тишины — и впечатлительный поэт сразу успокоился, мирно «отдыхал сердцем», «в мирной пристани богов благословил» забытые недавние тревоги, и в сердце, «бурями смиренное», вселились «и лень, и тишина»; «волненья жизни бурной» утихли под небесами юга, и поэт «душой заснул на лоне мирной лени»: теперь — он «беспечный сын природы». Впечатления от природы Кавказа, от его полубоевой, полукультурной жизни отразились и в письмах, и в произведениях его. Эти впечатления приподымали Пушкина, настраивали на «романтический лад» в духе Марлинского: он сам признавался, что на Кавказе «тень опасности нравится мечтательному воображению». Его Муза в «сказках Кавказа» приняла вид Леноры и «при луне скакала на коне»... Здесь, на Кавказе, начал он свою поэму «Кавказский Пленник» — по крайней мере записная книжка поэта свидетельствует о том, что план поэмы, ее содержание, герой интересовали его летом и осенью 1820 г. (поэма окончательно отделана была лишь в феврале или марте 1820 г). 5-го августа 1820 г., после двух месяцев, проведенных вместе на Минеральных водах, Пушкин с Раевскими отправился в Крым; во время переезда из Феодосии в Гурзуф, ночью, на корабле, написана была им элегия «Погасло дневное светило». Три недели, до половины сентября, провел он в Крыму, в Гурзуфе. Это время, проведенное в Гурзуфе, на лоне успокаивающей природы Крыма, особенно благотворно отразилось на его душе. Он наслаждался Крымом с моря — с корабля, наслаждался во время экскурсий, поездок; он наблюдал жизнь татар, мечтал над морем, к которому привязался всей душой. «Покойны чувства, ясен ум», душа, свободная от «мрачных дум», «неизвестная» доселе «нега» и грусть, «тайный голос» о «давно затерянном счастье» — глас, как будто говорящй о возможном возвращении этого счастья — вот те ощущения, которые узнал теперь Пушкин. «В Юрзуфе жил я сиднем», писал он Дельвигу в декабре 1824 г. из Михайловского: «купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского lazzaroni. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество». Много передумал Пушкин за это время. Прошлая жизнь пронеслась перед ним, окрашенная чувством сожаления и грусти. Он старался забыть «следы минувших лет» и «младости мятежное теченье», своих «минутных друзей» и наперсниц порочных заблуждений: та, прошлая жизнь казалась теперь «незанимательною повестью безумства и страстей»... Он жалел, что «рано в бурях отцвела» его «потерянная младость». Но забывались все налетные впечатления, даже политические мечтания, только резвые радости живы были, не закрывались «глубокие раны» какой-то любви... Поэт прощался с прошлой жизнью, восклицая: «прошел веселый жизни праздник». Разоблачив «пленительный кумир», он увидал в этом прошлом лишь «призрак безобразный» и лицемерие, самообман, любовь без любви, наслаждение без истинной радости. В тихой обстановке Раевских, в беседах этих просвещенных людей, в занятиях литературой и английским языком с младшей Раевской Пушкин постиг всю «прелесть тихого труда» и «жажды размышлений»... Немудрено, что он в такие светлые минуты, весь охваченный новой жизнью, не жалел о том, что покинул «шумный круг безумцев молодых», «минутной младости минутных друзей» и «наперсниц порочных заблуждений», но в то же время в некоторых его стихах звучит что-то вроде разочарования, тоски... Этот странный перебой настроений у Пушкина объясняется знакомством с поэзией «мировой скорби»: еще в Петербурге Шатобриан, с его Ренэ, был знаком Пушкину и, быть может, в минуты утомления, уже тогда отражался в его жизнерадостном творчестве серыми тонами. Теперь, когда поэт был оторван от прежней жизни, он стал воображать себя добровольным изгнанником, по своей воле покинувшим прежнюю жизнь. Подошло знакомство и увлеченье Байроном, этим гениальным учеником Шатобриана. Первая муза английского скорбника, полная презрения к человечеству, нашла отзвук в душе нашего поэта: он знал уже раньше первые приступы этого презрения к толпе, даже тогда, когда терялся в ней; теперь судьба оторвала его от толпы — и он познал всю цену «минутной дружбы» и минутной любви»; для разочарования, для «мировой скорби», следовательно, была почва. Но обстоятельства жизни, семья Раевских, жизнь в Крыму смягчили эти настроения, не дали им возможности развиться до Байроновского озлобления, до его беспощадной жестокости. Быть может, против сознания самого Пушкина, образ Ренэ, мягкого, любящего, тоскующего юноши вытеснил героев Байрона: даже подражание Байрону «Погасло дневное светило» (написано в конце августа 1820 г.) звучит по-шатобриановски, герой & #171;Кавказского Пленника» — полное повторение Ренэ... Таким образом, не байронизм постиг Пушкин, а ту грусть, которая у него искусственно взвинчивалась до разочарования с тем, чтобы порою сменяться живым, радостным сознанием, что тосковать о прошлом не приходится, что там нет ни истинной дружбы, ни любви, что там один «кошмар», а что теперь начинается «новая жизнь»... Вот почему о байронизме Пушкина говорить вовсе не приходится.
Расставшись с Раевскими, лелея надежду увидеть опять их милое семейство и полуденный берег, Пушкин, проводив их до Симферополя или Перекопа, поехал в Кишинев, куда 15-го июня временно переведен был Инзов наместником Бессарабской области. 21-го сентября Пушкин был уже в Кишеневе, но в ноябре месяце (до 24-го) того же года, вероятно, пользуясь благодушием Инзова, он покидает Кишинев и приезжает гостить в имение «Каменку», Киевской губернии, принадлежавшее матери генерала Раевского, Е. Н. Давыдовой (по второму мужу). Там он встретился с «милым семейством» Раевских, с Александром и Василием Львовичами Давыдовыми, сводными братьями генерала Н. Н. Раевского. Жизнь в Каменке была широкая и шумная. Е. Н. Давидова, племянница князя Потемкина-Таврического, была женщиной с большим характером, умом и влиянием: в ее доме умели весело и пышно жить, но умели интересоваться и книгой, и жгучими вопросами современности. Так, В. Л. Давыдов был одним из ревностных членов Тайного общества и умер в Красноярске, сохранив до конца дней ясность ума, прямоту души и чистоту сердца. М. Ф. Орлов, с 1821 г. муж старшей дочери Раевского — Екатерины Николаевны — занимался в Киеве делами Библейского Общества, был в свое время сочленом Пушкина по Арзамасу, где носил прозвище «Рейна», был впоследствии основателем Московской школы живописи и ваяния.Таким образом, для интересов политических, литературных и художественных Пушкин нашел в Каменке много живого и разнообразного материала. «Я теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского» — писал Пушкин 4-го декабря из Каменки Н. И. Гнедичу. «Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно — разнообразная смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что, преданный мгновенью, мало заботился я о толках петербургских». Поэт подчеркивает свою «преданность мгновению» — черту, которая для него, действительно, характерна и замечалась им самим неоднократно. Здесь, в Каменке, поэт попал в круговорот культурной жизни — и после сладостного крымского отдыха опять заволновался обострявшимися тогда политическими интересами, к которым близки были обитатели Каменки. Декабрист И. Д. Якушкин, посетивший Каменку как раз в то время, когда там гостил Пушкин, рассказывает о следующем любопытном эпизоде, рисующем и общество Каменки, и настроения Пушкина. Н. Н. Раевский подозревал о существовании тайного союза и имел основания думать, что Якушкин и Давыдовы — участники его. В присутствии Пушкина организовалось совещание по вопросу о том, нужно ли или нет тайное общество в России. Со стороны настоящих участников союза, вероятно, это было лишь зондированьем настроения двух непосвященных: Раевского и Пушкина. Когда, после горячих дебатов, все, по-видимому, согласились в необходимости такого общества, инициаторы совещанья со смехом заявили, что все эти разговоры — мистификация. Пушкин, горячившийся более других, был очень взволнован и, вероятно, оскорблен таким оборотом дела; «он встал раскрасневшись и сказал со слезами на глазах: я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженную и высокую цель перед собою, и все это было только злая шутка!» В эту минуту он был точно прекрасентябрь Так легко забывались обещания, недавно еще данные поэтом Карамзину: «преданный минуте», увлекаемый всегда течением окружающей жизни, поэт всей душой отдавался своим впечатлениям; он, быть может, даже сам провозглашал тосты здесь, в Каменке «за здоровье тех и той»: «тех» — это итальянских карбонариев; «той» — революционной Франции, скованной реставрацией. Вот почему и смерть Августа Коцебу от кинжала Занда, в свое время (1819 г.) прошедшая бесследно, теперь, раскрашенная красками радикализма, отозвалась в творчестве Пушкина великолепным гимном в честь кинжала («Кинжал»). Настроение приподымалось разговорами и слухами о политическом брожении русского общества — брожении, которое принимало уже вид военных мятежей (17—21 октября 1820 г. возмущение Семеновского полка). Но кроме таких жгучих интересов, Пушкин, под влиянием старика Раевского и его друзей, заинтересовался русской историей; результатом этих интересов были его «некоторые исторические замечания», в которых трудно выделить, что было своим, что чужим, навеянным беседами и спорами о прошлом и будущем России. По словам И. П. Липранди, Пушкин искусственно поднимал споры и разговоры о таких предметах, о которых он мало знал, но которые его интересовали; замечания и соображения, высказанные людьми компетентными, никогда не пропадали для него даром. Конечно, общество Раевских и их друзей и родственников в этом отношении было для поэта драгоценным. Под живым впечатлением этой серьезной и в то же время кипучей жизни Пушкин естественно вспомнил Чаадаева, его уютный кабинет, его беседы, «младые вечера, с ними проведенные, его «пророческие сны» и «вольнолюбивые надежды». Только теперь, под влиянием Раевских и их друзей, он постиг, как следует, Чаадаева и серьезно стал мечтать о том, чтобы пополнить пробелы в своем образовании «и в просвещении стать с веком наравне»; теперь познал он «тихий труд и жажду размышлений». Во время пребывания в Каменке написано (вернее отделано) несколько стихотворений, отражавших еще крымские настроения, закончена поэма «Кавказский Пленник» (совершенно приготовлена к печати она была в феврале—марте 1821 г.) — поэма, пропитанная давно уже пережитыми настроениями, владевшими Пушкиным еще до поездки с Раевскими. Образ героя был готов давно. Кавказ подсказал лишь фон; теперь же, когда поэма была окончена, поэт уже далеко отошел от нее по своим настроениям — потому и был недоволен ею. Можно думать, что в обществе Раевских он провел около двух месяцев: 15-го декабря 1820 г. А. Л. Давыдов извещал Инзова о болезни Пушкина, не позволяющей ему вернуться к сроку; судя по письму Инзова от 29-го декабря, в это время Пушкин не возвращался в Кишинев, а в начале 1821 г. он с Раевскими был в Киеве на свадьбе М. Ф. Орлова с Ек. Ник. Раевской. Из Киева Пушкин вернулся опять в Каменку и лишь в марте 1821 г. возвратился в Кишинев. Такое свободное отношение к срокам отпуска, службе и распоряжениям правительства вызвало беспокойство кишиневской полиции, которая сочла долгом об исчезновении Пушкина донести Бессарабскому областному правительству, предполагая, что «Пушкин выехал в Москву» еще до получения указа. Вероятно, заступником поэта был сам Инзов, который и в другом случае его прикрыл: из Кишинева донесли в Петербург, что Пушкин «публично ругает даже в кофейнях военное начальство и правительство». По приказанию Государя граф Каподистрия запросил, 13 апреля 1821 г., об этом Инзова, но тот 28 апреля отвечал одобреньем поведения поэта и просил о высылке ему 700 p. в год содержания. 1-го декабря 1821 г. Инзов писал второе защитительное письмо, на этот раз кн. П. М. Волконскому, на запрос, не масон ли Пушкин. Инзов, сам масон, очевидно, зная о масонстве поэта, ответил что масонских лож в Молдавии не существует. 4-го декабря, вероятно под его давлением, закрыта последняя масонская ложа «Авидей No 25».
В обществе Раевских его берегли, окружали разными удобствами, быть может даже, спасая его талант, не взяли в тайный союз. Не так благополучно обстояло дело в Кишиневе, куда, все-таки, после всевозможных проволочек, вроде удостоверения о болезни, в первых числах марта должен был вернуться Пушкин. Здесь на первых порах он жил еще жизнью Каменки — лучшие стихотворения 1821 г. (напрель «Желание», «Чаадаеву», «К моей чернильнице», «Наперсница волшебной старины», «Элегия», «К ***", «К Овидию») все написаны в начале Кишиневской жизни; но время шло, и Пушкин поддался пошлой полуазиатской, полуевропейской жизни молдаванского Кишинева. Целый ряд анекдотов самого разнообразного свойства, от смешных до циничных — остался красноречивым свидетельством отношений Пушкина к малокультурным туземцам и чиновникам г. Кишинева. Здесь, в пестрой обстановке захолустного города, поэт нашел много мишеней для своего остроумия и щедрою рукой рассыпал остроты и эпиграммы, экспромты и сатиры, добродушные и злобные... Власть «среды» и «момента» еще раз показали свою власть над поэтом. «Обилие красивых женщин, вольных в обращении, легкость нравов, вошедшая в обычай, сладострастная атмосфера волокитств и любовных интриг — все это производило на Пушкина опьяняющее действие и раздражало его горячее воображение. Он с наслаждением окунулся в этот заманчивый мир минутных связей и легких увлечений».
Вместе с этой головокружительной жизнью действовали и старые настроения: в стихах зазвучали мотивы сладострастия, перебивавшиеся прежними тоскливыми настроениями, в которых слышалось пресыщение жизнью, презрение к людям. Началось прежнее бравированье жизнью, выразившееся в дуэлях, началась прежняя игра с понятиями, священными для других. — Споры Пушкина с М. Ф. Орловым и А. П. Алексеевым, людьми интеллигентными (конец октября 1820 г.), дуэль с Зубовым из-за карт (в конце 1821 г.), дуэль с полковником С. Н. Старовым (в январе 1822 г.), избиение молдавского боярина Тодора Балша — все это факты, свидетельствующие о задорности поэта, о том нервном раздражении, в которое приводила его «толпа»; до его петербургских друзей сведения о его жизни доходили поздние и случайные: 30 мая 1822 г. кн. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу, что «кишиневский Пушкин ударил в рожу одного боярина и дрался на пистолетах с одним полковником. Он, сказывают пропадает от тоски, скуки и нищеты».
К службе своей Пушкин относился с полным пренебрежением: очевидно, только для очистки совести старик Инзов пользовался своим своенравным чиновником для посылок его то в Аккерман и Измаил, то в другие места подведомственной ему области. Все остальное время Пушкин был свободен, лицом к лицу с пестрой кишиневской «толпой».
И в то же время, чем глубже уходил поэт в толпу, тем болезненнее чувствовал он свою пробудившуюся «личность», свое одинокое положение в этой толпе. Под влиянием таких настроений Байрон — поэт «личности», Наполеон — могучее воплощение «личности» стали казаться ему и близкими, и понятными... Если в первый период увлечения мотивами «мировой скорби» поэт понял ее одностороннее, со стороны разочарования, уныние, и в результате получился герой «Кавказского Пленника» и несколько аналогичных по настроению стихотворений, то теперь эта поэзия «мировой скорби» повернулась к Пушкину другой своей стороной — 10 мотивами «презрения к людям, стремления в свободе личности... Все это старые, давно знакомые Пушкину настроения, отразившиеся даже в его ранних стихах, но теперь они нашли себе поддержку в героях Байрона, в образе Наполеона, в проясняющемся самосознании, в низкой оценке русского «общества». В результате — ряд восторженных отзывов о французском императоре, который еще недавно казался поэту только преступником; в результате — первые, быть может, еще неясные очертания образа Алеко, конечно по духу своему ближе подходящего к героям Байрона, чем герой «Кавказского Пленника»; отсюда, наконец, ряд стихотворений, в которых поэт — жрец, полубог защищает святые права своей «личности» от посягательства толпы. Но нетрудно заметить, что, отказавшись от разочарования и скорби и оставя в себе в замен их презрение к людям, Пушкин по-прежнему стоял так же далеко от Байрона, как и раньше. Произошло это, конечно, потому, что Пушкин — «обыватель г. Кишинева», живущий его мелкими интересами, и в то же время корчащий из себя Байрона, Пушкин — поэт, гордо отстаивающий свою «личность», еще не исчерпывали всего поэта: в душе его, в его сердце не умирал, но зрел еще третий Пушкин — «человек», тот, которого в нем, еще ребенке, полюбила старая няня, в Лицее Пущин, в Крыму — семья Раевских, а здесь, в Кишнневе, старик Инзов. Будучи масоном, старый генерал, под опеку которого попал Пушкин, исповедовал — как и вся его партия — известное учение о благодати, способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была окончательно извращена. Вот почему, например, в распущенном, подчас даже безумном, но всегда искренно каявшемся Пушкине Инзов видел более задатков будущности и морального развития, «чем в ином господине с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе». По свидетельству Н. А. Алексеева, Инзов «был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту». Почти всегда Пушкин начинал свои отношения с людьми с того, что показывал им свои самые невыгодные стороны. Что-то злобное и рассчитанное было в тех проказах, которые он позволял себе по адресу старого генерала. Так, например, обедая у него, он нарочно заводил вольнодумный разговор и, зная строго религиозные убеждения хозяина, старался развивать наиболее противоположные им теории. «Замечательно», прибавляет Анненков, что он никогда не мог «окончательно рассердить Инзова». В результате таких «проб» поэт признал в Инзове права на уважение и любовь: «Инзов, писал он, меня очень любил и за всякую ссору с молдаванами объявлял мне комнатный арест и присылал мне — скуки ради — французские журналы... Генерал Инзов — добрый, почтенный... Он русский в душе... Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет их; не боится насмешек, потому что выше их...» Оетается пожалеть, что различия возрастов, обилие дел помешали Инзову сблизиться с поэтом до такой степени, чтобы завоеванное им у поэта уважение сделалось источником постоянного благотворного воздействия на него. Такого воздействия со стороны Инзова не было даже и тогда, когда поэт его оценил. Жизнь поэта по-прежнему текла пестро и по-прежнему была полна противоречий: от распутства он легко переходил к вышучиванью местных красавиц, их мужей; его забавляли скандалы, мальчишеские шалости, сердившие евреев, переодеванья в пестрые костюмы греков, молдаван и сербов; наряду с этим он мог увлекаться серьезной книгой, попадавшейся ему под руку. Одно время он весь был поглощен начавшейся борьбой греков за освобождение — об этом увлечении свидетельствуют и стихотворения его, и письма, и разные заметки. И, как во всех своих увлечениях, поэт разочаровался и в этой вере. «Константинопольские нищие, карманные воришки (coupeurs de bourses), бродяги без смелости, которые не могли выдержать первого огня даже плохих турецких стрелков — вот, что они... Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева, со многими из них были лично знакомы и свидетельствуем теперь о их полном ничтожестве: ни малейшей идеи в военном искусстве, никакого понятия о чести. Они отыскали средство быть пошлыми в то самое время, когда рассказы их должны были бы интересовать каждого европейца».
Из влияний, наиболее серьезных и длительных, действовавших в эту пору на поэта, надо отметить те, что шли от общества военных. Связи Пушкина с этим кругом начались благодаря Раевским и поддерживались тем политическим единомыслием, которое тогда соединяло почти всех интеллигентных людей России накануне вспышки 14 декабря 1825 г. Из Кишиневских военных, знакомых Пушкина, следует назвать начальника 16-ой дивизии М. Ф. Орлова, бригадного командира П. С. Пущина, генерала Д. Н. Бологовского, начальника дивизионной ланкастерской школы В. Ф. Раевского и офицеров: К. А. Охотникова, В. П. Горчакова, И. П. Липранди, А. Ф. Вельтмана, князей Ипсиланти и др. Наездом в Кишиневе живали братья Полторацкие — М. А. и А. П., известный Пестель, Раевские и Давыдовы, приезжавшие к М. Ф. Орлову, женатому на Е. Н. Раевской. В этой серьезной среде, настроенной на оппозиционный лад, неуместна была шаловливость и резвость поэта — здесь он приучался серьезно относиться к русской действительности, здесь он яснее всего сознавал недостатки своего образования. Книги он брал у Инзова, Орлова, Липранди и на этой почве самообразования ближе всего сошелся с А. Ф. Вельтманом и В. Ф. Раевским. Кроме того, он собирал и записывал песни, преданья, рассказы туземцев, изучал чуждые ему нравы, присматривался к чуждым лицам разных сербов и греков, цыган и молдаван. Многие произведения, вроде стихотворения «Черная Шаль», песни «Режь меня, жги меня», поэмы «Цыгане», отчасти «Кирджали» — все были результатом этих наблюдений. Несмотря на такую полноту и ширину интересов, поэт был недоволен своей жизнью: 23-го марта 1821 г. он писал Дельвигу, что решился расстаться с Кишиневом: «праздный мир, говорит он, не самое лучшее состояние жизни, даже и Скарментадо кажется не прав — самого лучшего состояния нет на свете; но разнообразие спасительно для души». О тяжелых минутах его душевного состояния лучше всего свидетельствуют некоторые его письма, особенно одно, к брату — это письмо все дышит сознанием целого ряда сделанных ошибок; от них-то и старается поэт удержать брата. Прежде всего он дает совет думать обо всех людях как можно хуже, не судить, руководясь своим «благородным и хорошим» сердцем; людей надо презирать, говорит он, «le plus poliment, qu'il vous sera possible». Co всеми надо быть холодну, остерегаться фамильярности, воздерживаться от всего, в чем, по своей низости, постараются увидеть искатетьство. Даже друзьям верить не рекомендуется — и рядом с этим практический совет меньше любить женщин, чтобы больше у них иметь удачи. Характерно заключение письма «n'empruntez jamais, souffrez plutot la misere, croyez qu'elle n'est pas aussi terrible, qu'on se la peint et surtout que la certitude ou l'on peut se voir d'etre mal-honnete ou d'etre pris pour tel. Ces principes que je vous propose, je les dois a une douloureuse experience» (1822 г.). Конечно, все это, как сознается сам автор письма, подсказано опытами жизни. Еще ранее, в письме к.Дельвигу от 23-го марта 1821 г., поэт говорил, что «для существа, одаренного душой», нет другого воспитания, кроме того, которое дается ему «обстоятельствами жизни и им самим». Из пересказанного письма к брату нетрудно усмотреть, что пока «воспитание» не отличалось стройностью и даже равноценностью выводов — здесь все случайно, все смешано; и благородное, и пошлое, все еще полно минутных впечатлений, отчасти даже той поэтической неправды, которая всего ярче по напыщенности в одном отрывке к какому-то неизвестному лицу: «Vous etes mon digne maitre, brave, mordant, mechant, — cela n'est point assez, il faut etre feroce, tyran, vindicatif, c'est ou je vous prie de me conduire. Les hommes ne vaillent pas qu'on les evalue par ces etincelles du genie et de sentiment, par les quelles je me sais avise de les evaluer. Jusqu'a present c'est par berquovetz du'il faut les estimer. Il faut se rendre aussi egoiste qu'ils le sont en general pour en venir a bout. С'est alors seulement que l'on peut assigner le plan qu'il convient a chacun d'occuper». Конечно, в этих красивых, но напыщенных словах много неправды; но она нравилась Пушкину в известные моменты его настроений: эта неправда принесена была преклонением пред поэзией Байрона, пред личностью Наполеона. Но как мудрым наставлениям, преподанным брату, поэт не следовал в жизни, так и эту неправду он позднее распял в лице Алеко. Если поэма написана и позднее, то несомненно образ героя и концепция всего произведения сложились раньше, и она доказывает это. Да по самой сущности своей, еще не устоявшейся души, в это время Пушкин не мог еще остановиться на чем-нибудь одном: стоит перелистать его лирические стихотворения за этот период — и разнообразие настроений бросится в глаза. Вот застольная песенка в честь вина и любви, вот — меткая эпиграмма, невольно вызывающая улыбку, вот задушевная, теплая элегия, вся дышащая любовью к людям; сейчас же за тем осколок злой сатиры, за нею возвышенная молитва, страстный вопль, какая-то скабрезность, ласковая шутка, обломок какой-то поэмы на религиозные темы — поэмы, обильно изуродованной цензурой; смех и слезы, радость и горе, вера и неверие — все это причудливо мешается в этом калейдоскопе настроений. И среди этой пестроты все заметнее и определеннее вырисовывается тот простой, сердечный, доброжелательный, всепрощающий Пушкин, которого мало кто подозревал в юноше заносчивом, не всегда приличном, распустившемся в Кишиневе. Письма выдают его головой.
Впервые оторванный от близких друзей, поэт, несомненно, болезненно ощутил пустоту в сердце и его тянуло к тем лицам, дружба которых теперь, во время его «сердечного сиротства», была особенно потребна — быть может потому в письмах его звучат необычайно нежные ноты, часто малодушные, иногда шутливые, редко заносчивые и дерзкие. Письма последнего сорта — французские черновики, найденные между бумагами поэта, и, быть может, это даже не письма, а какие-нибудь заметки: по крайней мере, слишком резким диссонансом выделяются они на светлом фоне тех многочисленных писем, в которых сказалась необыкновенная грация пушкинской души. В отношениях ко многим из корреспондентов своих он порою нежен и деликатен, иногда умеет добродушным словом успокоить нарастающее неудовольствие. Его злословие в свободной болтовне здесь никогда не переходит за пределы добродушия. Во многих письмах он благодарит друзей за доброе к нему отношение, жалуется на то, что они его забывают. «Дельвигу и Гнедичу продолжал я писать — жалуется он Гречу — да они и в ус не дуют. Что б это значило? Если просто забвение — то я им не пеняю; забвенье — естественный удел всякого отсутствующего». Брата он упрекает за краткость его писем: «болтливость братской дружбы, говорит он, была бы мне большим утешением. Представь себе, что до моей пустыни не доходит ни один дружеский голос, — что друзья мои, как нарочно, решились оправдать мою мизантропию — и это состояние несносно». Получив давно жданное письмо от Гнедича, он пишет ему прямо трогательные строчки: «Благодарю вас, любезный и почтенный за то, что вспомнили вы бессарабского пустынника. Он молчит, боясь надоедать тем, которых любит»... Тому же Гнедичу он писал, что полученное письмо тронуло его до глубины души: «благодарю за воспоминание, за дружбу, за хвалу, за упреки, за формат этого письма, — все показывает участие, которое принимает живая душа ваша во всем, что касается до меня». В этих поспешных и прочувствованных благодарностях, в шутках вроде: «пожалейте меня: живу между гетов и сарматов; никто не понимает меня» — звучат ясно глубокие муки одиночества... Искал поэт сердечного ответа себе и в сердце брата — он шлет ему теплые, дружеские, задушевные посланья, словно опасаясь того, что родители воспитают брата Льва в ненависти к нему; он беспокоится о брате, справляется о нем у других, преподает ему серьезные и шутливые советы, порой журит, но до того добродушно, что иногда сам кончает извинением. К концу 1822 г. Пушкин так стосковался в Кишиневе, несмотря на свои неоднократные отлучки, что 13-го января 1823 г. обратился к гр. Нессельроде с письмом, в котором просит себе прощения. В конце марта (27-го) Нессельроде уведомил его, что государь отклонил его просьбу. Тогда Пушкин стал мечтать о переводе в Одессу — город этот он знал во время своих неоднократных отлучек из Кишинева: так в конце апреля 1821 г. он жил около месяца в Одессе с согласия Инзова; быть может — он сумел там найти себе друзей; туда влекла его и жажда пожить культурной жизнью европейского города. К тому же и первое свидание с гр. М. С. Воронцовым, назначенным 7-го мая на должность Новороссийского генерал-губернатора и Наместника Бессарабской областе, произвело на Пушкина благоприятное впечатление, и он решился переменить свою службу при Инзове на службу при Воронцове. Несомненно, новый наместник на первых порах был заинтересован тем, чтобы знаменитый поэт находился в его свите — по крайней мере обещание его взять Пушкина у Инзова, «чтобы спасти его нравственность» и дать таланту досуг и силу развиться, как будто говорит нам о том участии, которое было проявлено по отношению к поэту его новым начальством. 4-го июля Пушкин перебрался уже в Одессу, к великому огорчению добродушного Инзова, который чувствовал себя обиженным таким непостоянством и даже неблагодарностию поэта.
На первых порах Пушкин с безмятежной радостью пользовался удобствами шумной жизни богатого приморского города. В «Евгении Онегине» есть удивительно живые, яркие строки, посвященные Одессе. Поэта увлекало то, что в этом городе «все Европой дышет, веет. Все блещет югом и пестреет разнообразностью живой». Пестрота костюмов, наречий и нравов тоже интересовала поэта. Шумная уличная жизнь, casino и рестораны, опера, балет, закулисные свидания и волокитство за дамами более высокого, чем в Кишиневе, круга — все это кружило голову увлекающемуся поэту; немудрено, что в такие безоблачные моменты он готов был себя причислить к «обжорливым» ребятам, которые не знают печали... Но, конечно, эта радость была так интенсивна лишь после долгого Кишиневского поста. Разочарования начались с того момента, как Пушкин ближе сошелся с одесским обществом. Прежде всего он столкнулся с самим Воронцовым.